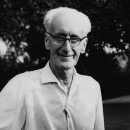В 1940 году писатель и художник, польский офицер Юзеф Чапский вместе с несколькими десятками других узников был переведен из Старобельского лагеря на востоке Украины в другое место. В 1943 году он написал «Старобельские воспоминания», где говорил о том, что большинство заключенных этого лагеря были расстреляны НКВД.
В том же году было обнаружено захоронение в Катыни. Казнь польских военнопленных из нескольких лагерей, включая Старобельский, вошла в историю как Катынский расстрел. Публикуем фрагмент книги Чапского, изданной в 1944 году.
В Старобельском лагере на момент расформирования, 5 апреля 1940 года, было 3920 офицеров, несколько десятков гражданских лиц и около 30 подхорунжих и хорунжих. Выжили 79. Я — один из них. Все остальные исчезли бесследно, несмотря на неустанные попытки выяснить, где они находятся.
Я попал в плен 27 сентября 1939 года на границе Львовского воеводства в селении Хмелько вместе с двумя запасными эскадронами Третьего полка, которые без лошадей, почти без оружия, были окружены советскими танками и артиллерией. Нам пообещали, что рядовые будут отпущены (что, впрочем, было выполнено), а офицеров только отвезут во Львов и там тоже отпустят на свободу.
Люди были измучены постоянными сражениями или, хуже того, отступлением без боя, отсутствием связи, доходившими до нас противоречивыми приказами, подлинность которых невозможно было проверить. Люди были потрясены известиями о бомбардировках и разрушении Варшавы, о том, что президент, правительство, верховный главнокомандующий покинули страну; люди хватались за соломинку, за тень надежды: может, и правда Советы — ведь не могут же они быть заинтересованы в победе гитлеровской Германии! — дадут нам возможность хотя бы перейти границу и продолжить борьбу, пусть не в Польше, где битва уже проиграна, но во Франции.
Тысячи политруков всеми способами старались разжечь в нас эту угасающую надежду. А о том, что нас велено вывезти за пределы Польши в советские лагеря, ни один представитель советской армии не то что даже не обмолвился — до самой границы все авторитетно заявляли, будто об этом и речи быть не может: вы нам не нужны, повторяли они на разные лады. (Здесь и далее приведенные в тексте русские слова выделены курсивом — прим.ред.)
…Во Львов нас привезли в сумерках и мы ненадолго остановились на рынке. Мы теснились в грузовике, несколько дней не мывшиеся, небритые, безоружные. Грузовик стоял около лотков с фруктами. Один из наших решил купить пару яблок и спросил, сколько стоит. Когда какая-то лоточница хотела нам эти яблоки продать, вмешалась другая, мощная крупная женщина — с возмущением оттолкнув соседку, она принялась хватать огромными загорелыми руками свои яблоки и, сверкая полными слез глазами, бросать их в машину. Это продолжалось совсем недолго, но когда стерегший нас боец на минутку отвернулся, мы были засыпаны яблоками и сигаретами, которые нам совали торговки и прохожие. Помню среди них молодого еврея: он тоже купил нам яблок и так поспешно швырнул в машину, что выронил вместе с яблоками и свой портфель. Потом нас привезли к Главпочтамту. Было уже совсем темно. Со всех сторон нас окружали бойцы, грубо отгоняя всякого, кто хотел протиснуться к грузовику, но отовсюду — упрямо, невзирая на ругань и штыки, — к нам подбегали женщины, брали открытки для наших родных, протягивали сигареты, даже шоколад.
Потом — Тарнополь, увешанный красными флагами и транспарантами. Нас привезли в школу напротив церкви — открытой, полной народу. Когда нас заводили туда, я заметил в толпе молоденькую пару, девушку и парня, лет, должно быть, пятнадцати, не больше. Тщательно причесанные светлые волосы, скромная, но очень опрятная одежда. Они стояли тихонько и смотрели на нас с безмерным вниманием, с таким стыдом и болью, что мне будет трудно забыть эти детские глаза.
На рассвете, когда мы отправлялись из Тарнополя навстречу дождливому, грязному утру, к нам подбежала заплаканная женщина, ехавшая на разбитой телеге, и стала совать нам теплое одеяло, старое пальто.
Из Тарнополя нас отправили в Волочиск — сначала на грузовиках, потом пешком. По дороге к нам присоединяли колонны офицеров.
Теперь уже трудно было обманываться. Пешая колонна пленных становилась все длиннее, не один терял сознание в пути, однако тогда я еще не видел, чтобы кого-нибудь пристрелили, только раз стал свидетелем такой — неисполненной, впрочем, — угрозы. Мы шли по шоссе через широкие галицийские поля с разбитыми уже фигурами святых.
Так мы дошли до границы: мост через Збруч, по одну сторону, среди жнивья, очень высокий деревянный крест, по другую – убогий городок.
Первый советский город, Волочиск. Другой мир. Уродливые дома-развалюхи, убогие, как будто ни разу не ремонтировавшиеся. Знаменитая электрификация, о которой мы столько читали: редкие электрические лампочки, мигающие тусклым красноватым светом, и красный неоновый профиль Сталина в городском саду — вот и все.
Нас было примерно две тысячи офицеров, все на грани нервного и физического истощения, окоченевшие от пронизывающего осеннего холода. Всех нас затолкали в коровники, уже забитые рядовыми, которых тоже было не меньше двух тысяч.
Первая ночь за пределами Польши. В том коровнике польская армия была толпой сбившихся в кучу, оглушенных несчастьем, психически подавленных людей. Было совсем темно; когда закрывали все двери, от невозможной духоты страдали те, кто сидел в глубине. А как только двери пробовали открыть, холод становился невыносимым для приткнувшихся ближе к выходу. В темноте вспыхивали грубые, резкие перепалки: «закройте дверь», «от вони еще никто не умирал», «откройте дверь», «нам нечем дышать», «хамы, видать, в хлеву родились».
Бесконечно униженные, мы слушали в темноте эти выкрики и брань, и вдруг кто-то затянул:
Отец Небесный, охрани нас и спаси,
Детей твоих! К Тебе мы прибегаем!
Избави от погибели нас, Отче,
Помилуй чад твоих!
Ожесточились против нас враги.
И все, как один, в коровнике за ним подхватили. И столько было в этом детской веры и слез, такое безотчетное чувство единения, такой молитвенный порыв в последней фразе: «Ибо Ты защита нам, Боже Отче наш», что почти физически ощущалось то внутреннее преображение, которое внезапно совершила в каждом из нас, запертых в душном коровнике, эта старая польская религиозная песня. Сколько раз я слышал потом, как пели ее в России, в лагерях, в армии, в Иране и Ираке, и всегда она пробуждала во мне воспоминания из другого измерения, из коровника в Волочиске, так, словно это было вчера…
Через пару дней нас отправили дальше. И вновь ожидание, бесчисленные часы в бесконечной плотной колонне по четверо в ряд, под низкими, быстро бегущими облаками в холодных сумерках, а потом в беспросветно черной ночи, в ожидании, пока приведут на станцию, погрузят, повезут в неизвестном направлении.
Потом — долгие дни в эшелоне. Внезапно ударили морозы, выпал ранний снег. По сравнению с другими перегонами мы ехали даже с относительным комфортом: вагоны не были опломбированы, в товарный вагон запихивали только 40 человек, и за 6 или 7 дней пути мы три раза получали горячую еду — в Киеве, Харькове и на какой-то узловой станции. А еще нам давали хлеб и вяленую рыбу…
В Старобельск нас привезли в начале октября. На земле уже лежал снег. Нас окружили полицейскими собаками и повели по этому мокрому снегу, по убогим улицам, мимо городских домов, мимо нищих, крытых соломой хат. Выскочил какой-то паренек, быстро сунул нам в руки арбуз и убежал. Из закрытых низких окон на нас внимательно, сочувственно смотрели женщины и мужчины. Мне запомнилось изможденное лицо одной женщины — седовласая, очень грустная, она глядела на нас сквозь очки умными печальными глазами. Потом я узнал, что именно в Старобельск выслали на поселение много российской интеллигенции из крупных городов.
Большую часть пленных разместили в зданиях бывшего монастыря (потом на этой территории устроили лагерь), тех же, кому не хватило места (среди них был и я), отвели в какое-то учреждение или тюрьму в центре города.
Нас, несколько сотен, держали в огороженном стенами дворе, в четырех маленьких клетушках и большом каретном сарае — там стояли диковинные старые колымаги, а весь пол был усыпан обрывками исписанной бумаги, книг и журналов из какой-то разоренной библиотеки. В одной из стен сарая на уровне головы была большая выбитая пулями дыра. Нам сказали, что именно здесь в 1917 году расстреливали буржуев; такие же дыры от выстрелов я видел в стене, окружающей старобельский монастырь. Говорят, там расстреливали местных монахинь. Бумаги, рассыпанные на полу сарая, стали для нас настоящим спасением. Ночью мороз не давал заснуть; мы с однополчанами научились укладываться по особой системе, так плотно, что одного одеяла хватало на троих. А поверх одеяла мы насыпали эти бумаги, которые спасали нас от мороза. И все-таки я, не выдержав таких холодов, втиснулся в одну из битком набитых клетушек, где нас жрали вши и где, сидя в страшной тесноте на полу поджав ноги, нельзя было даже пошевелиться, но хотя бы было тепло…
Примерно через неделю меня перевели в сам лагерь: это была территория площадью в 10–15 гектаров. Там находилась большая церковь со сбитыми крестами, которую в то время использовали как зернохранилище. При нас в эту церковь свозили со всей округи сотни телег пшеницы, а за зиму все запасы вывезли, как нам тогда говорили, в Германию. Была там и другая церковь, поменьше, доверху забитая ярусами нар и вся заполненная пленными. Кроме того, имелось несколько прежних монастырских строений, в них тоже жили и спали — в коридорах, на нарах, на голой земле — тысячи пленных, которых переправляли через Старобельск…
 Старобельский монастырь. Источник: wikipedia.org
Старобельский монастырь. Источник: wikipedia.org
В ту осень, снежную и морозную, там жили тысячи оборванных и завшивевших людей. Сначала даже и речи не было о том, чтобы все могли спать под крышей. В самом Старобельске поставили палатки.
В первые недели не было даже самого необходимого: ни бани, ни прожарки, не хватало еды.
Зато повсюду во дворах, даже в бане, понавешали дурацкие репродукторы, которые с утра до ночи рычали, хрипели, как и по всей России, выдавая пропагандистские антипольские «байки» вперемежку с… Шопеном. (Даже по скверному радио — услышанный внезапно обрывок этюда, ноктюрна или сонаты трогал до слез.)
Единственная городская баня не могла обслужить тысячи человек. В прожарке температура была недостаточно высокой, и зачастую одежда возвращалась после дезинсекции еще более завшивевшая, чем раньше. Вспоминаю солагерников, которые как милости просили, чтобы им позволили, будто псам, забиться под нары — это было единственное свободное место, иначе им пришлось бы ночевать на морозе.
Всю эту толпу снедало отчаяние и душило унижение. Каждый с самого начала чувствовал себя одиноким и замкнутым в своей боли. Ведь мы тогда почти ничего не знали, если не считать пугающих слухов о полном уничтожении Варшавы, где у стольких из нас были семьи, о сотнях сожженных городов и селений. Единственное, что мы слышали, — это ежедневная нескончаемая клевета на Польшу и насмешки над польской армией, которыми нас кормило радио.
Первое время жизнь в постоянной давке, когда человек ни минуты не оставался один, когда на общем фоне сразу выделялись самые слабые и самые сильные личности, была нелегким нравственным испытанием. Невозможность побыть в одиночестве тяготила нас больше, чем грязь, голод и вши…
Почти сразу по приезде в Старобельск начали стихийно организовываться (сначала открыто, а когда их запретили — втайне) лекционные кружки.
Формально общение между бараками было запрещено, на практике же никто с этим запретом не считался. Всю зиму я ходил по вечерам к майору Солтану — в «майорском» помещении освещение было лучше — для совместного чтения книг, изредка вылавливаемых из лагерного моря. Этих совместных вечерних чтений и дискуссий целый день с радостным нетерпением ждали многие. Никто из участников тех наших старобельских вечеров впоследствии не нашелся — в живых остался только я…
Комендантом самого большого помещения, где в Старобельске держали пленных, был тихий, с больными легкими, поручик Кволек: высокий, очень худой, с кротким взглядом из-за очков и темной бородой. Помещение это находилось в бывшей малой церкви, построенной при главном большом храме. Церковь до самых сводов была заполнена нарами, установленными так тесно, что у входящего возникало впечатление, будто люди живут в зловонных ящиках, поставленных один на другой. Не могу себе простить, что у меня нет ни одного наброска этих странных джунглей нар…
Когда настал день 11 ноября и его, вопреки запрету, отмечали во всех бараках, наиболее пышно праздник проходил в «Шанхае» («Шанхаем» или «цирком» называли ту забитую нарами церковь). Один из пленных декламировал «Письмо из Сибири» Ор-Ота (псевдоним польского поэта Артура Оппмана — прим.ред.); стихотворение в этих условиях произвело потрясающее впечатление — казалось, что оно написано специально для нас. Декламировали также Мицкевича и даже «Пурпурную поэму» Лехоня (в этом произведении поэт Ян Лехонь прославляет борьбу за независимость Польши — прим.ред.). Кволек не только организовал празднество, но и совершил еще худшее «преступление»: повесил на видном месте сколоченный из досок большой черный крест. Это и правда уже было слишком. Больного уже в то время, тихого, но решительного поручика Кволека увезли сразу после 11 ноября. И лишь в Ираке я узнал, что он погиб в 1941 году в одном из рудников на дальнем севере, оставив письмо жене, которое сохранили его друзья…
Очень скоро после прибытия в лагерь я заболел воспалением легких. С температурой сорок, харкая кровью, я попал в больничную палату. Я слышал легенды о том, что там есть ванна, что можно помыться. И действительно: меня отвели в комнатку с ванной. Ванна, однако, была дырявая, а на дне ее стоял таз с чуть теплой водой. И все. Тем не менее я получил чистую рубашку, и когда меня положили в маленькой комнатушке вместе с пятью чахоточными, мне показалось, что я почти в раю.
Нас лечили наши товарищи, польские врачи, и одна молодая большевичка, заботливая и умная, которую пациенты вспоминали с благодарностью.
Странно звучит, но должен признать, что проведенные там три или четыре недели я считаю почти счастливыми. Сначала высокая температура дарила мне эйфорию воспоминаний, постоянного общения с теми, кого я оставил на родине. Потом температура начала спадать, возвращались силы. И тогда я, чтобы не заржавели мозги, попытался вечерами, когда все уже спали, писать по памяти историю живописи от Давида до наших дней. Свой исписанный бисерным почерком, карандашом, блокнот (бумаги в лагере, если не считать газет, не было), в котором история была доведена только до школы Фонтенбло или Курбе, я потом потерял в тюремном вагоне между Старобельском и Грязовцем, но этот «труд» очень мне пригодился, ибо в процессе работы я многое припоминал.
Умственная работа без книг, без заметок дает совершенно иные ощущения, нежели работа в нормальных условиях. Тут активно действует то, что Пруст называет «непроизвольной памятью», в которой видит единственный истинный источник всякого литературного творчества. Через некоторое время на поверхность всплывают факты, детали, «складированные» где-то в твоих мозговых извилинах, о чем ты даже не подозревал. И все эти вырастающие словно бы из подсознания воспоминания уже переплавлены, более органично между собой связаны и более личные…
Благодаря многолетней работе художника в последние годы перед войной у меня установилась очень живая и почти неразрывная связь с природой. Независимо от живописности пейзажа, я остро реагировал на освещение, на деревья, облака, камни.
Но после сентябрьской катастрофы в течение нескольких недель мне казалось, что контакт с природой полностью утрачен, словно я от нее отделился. Самый прекрасный закат, самый дивный вид — все было для меня совершенно чужим. Потому столь ярко запомнился первый заново пережитый пейзаж. Был уже конец ноября, на рассвете за красными стенами нашего дома внезапно «взорвалось» бенгальскими огнями небо, полное розовых, сверкающих, словно наэлектризованных облаков, пронизанных полосами ясной лазури. На этом фоне огромная, свежевыстроенная ограда из мощных заостренных кольев светилась золотисто-рыжеватым светом, деревянная будка, не освещенная лучами солнца, имела цвет сапфира, а за оградой вдали виднелись огромные деревья со светло-голубыми, светлее неба, стволами, усеянные тысячами черных галок и ворон.
Время шло, и понемногу ко мне возвращалось восприятие форм и красок. Это был признак постепенного возвращения к жизни, даже к радости жизни, несмотря ни на что.
Нам приказали строить новые бараки. Они были готовы уже к Рождеству. Эти новые бараки (вместе со старыми зданиями их было двадцать с небольшим) были более холодными, но хотя бы без клопов, чистые, проходы между нарами имели названия, как улицы; после перевода в один из этих бараков я жил на углу Львовской и улицы Норвида.
Если празднование 11 ноября было первым общим патриотическим и нравственным порывом, который помог нам всем взять в свои руки и постепенно организовать наш втиснутый в 15 гектаров коллектив, то еще более благословенное влияние на существование всего лагерного сообщества оказали праздники. Без преувеличения можно утверждать, что именно Рождество стало началом новой, более осмысленной главы в нашей старобельской жизни. На это повлиял еще один факт: первые письма, которые мы получили от наших близких, пришли сразу после 20 декабря, и даже у тех, кто их не получил, создалось ощущение, будто разомкнулся круг нашего одиночества. Как будто мы уже не были навеки заживо погребены в чуждом и враждебном нам мире.
Не знаю откуда и не знаю как, поскольку сам в то время лишь недавно вышел из госпиталя, наши раздобыли даже маленькие елочки; на всех нарах, во всех помещениях отмечали Сочельник. Были даже облатки с изображением Святого Семейства, которое умудрился с помощью формы, сделанной втайне от большевиков, оттиснуть на облатках незабвенный прекрасный польский художник Мантейфель, который тоже был с нами в Старобельске.
Узкий стол в узком проходе между высокими нарами, маленькая елочка на самой настоящей скатерти, перед каждым буханка, три маленькие конфетки. Общее настроение — радостно-сосредоточенное. Каждый думает о своем. Мы преломляем облатки, у одного из нас даже есть облатка из Польши. Потом весь барак звенит и гудит — мы поем колядки, и ни бойцы, ни даже политруки не решаются вмешиваться и исчезают на этот единственный вечер с горизонта…
Советское радио по-прежнему умалчивало о свидетельствах того, что Польша не покорилась насилию. Польша раз и навсегда перестала существовать — в это обязан был в то время верить каждый советский гражданин, — но сразу после Рождества откуда-то начали просачиваться смутные вести, что польское правительство существует, что во Франции формируется польская армия; до нас даже дошло одно из выступлений верховного главнокомандующего, переданное по радио, а в открытках и письмах от родных, которые начали приходить после праздника, обнаруживались зашифрованные в самых странных, порой наивных метафорах слова ободрения, обещание чего-то радостного, и это оказывало нам огромную моральную поддержку и каждый раз давало новый заряд надежды.
Несмотря на категорические запреты, проводились общие молитвы и постоянно читались лекции на разные темы…
Все мы проходили через многочисленные, преимущественно ночные, допросы, весьма разнообразные по интенсивности и форме. Лично меня во время допросов особенно не мучили ни физически, ни даже морально. В выпавших на мою долю двухчасовых допросах, проводившихся в основном поздно вечером, были даже юмористические элементы. (Впрочем, так мне кажется сейчас, но не тогда, когда я прекрасно знал, что от одного сказанного мною неосторожного слова, от малейшей перемены настроения моего собеседника зависит моя судьба.) Допрашивали меня трое энкавэдэшников. От меня они узнали, что я восемь лет работал в Париже как художник. Это показалось им подозрительным.
— Какие указания дал вам министр иностранных дел, когда вы уезжали в Париж? — спросили меня.
Я ответил, что министр даже не знал, что я уезжаю.
— Тогда что велел вам заместитель министра?
— Да ведь и он не знал о моем отъезде! Я же ехал туда как художник, не как шпион.
— Неужели вы думаете, мы не понимаем, что вы именно как художник могли нарисовать план Парижа и переслать его министру в Варшаву?
Я никак не мог растолковать моему собеседнику, что план Парижа можно получить в Париже за пару десятков сантимов на каждом углу и что польские художники, ездившие в Париж, не были шпионами, которые тайно рисуют планы. Никто из допрашивающих так и не поверил мне до конца, что можно выезжать за границу с иной целью, кроме как шпионаж.
Я не удостоился чести быть допрашиваемым опытными спецами…
Уже с февраля 1940 года поползли слухи, что нас отошлют из этого лагеря по разным местам. Из открыток, которые дошли до нас с родины, у меня имелись сведения, что несколько полек из Красного Креста, в том числе жена доктора Колодзейского и две мои сестры, провели посменно по две недели на станциях между немецкой и советской зоной оккупации с тысячами посылок, ожидая в лютые морозы нашего возвращения или перевода в немецкие лагеря, о чем якобы было объявлено. Кроме того, наши лагерные власти распускали слухи, будто Советы отдают нас союзникам, будто нас высылают во Францию, чтобы мы там могли принять участие в боях. Нам даже подбросили официальную советскую бумажку с маршрутом нашей поездки через Бендеры. Однажды нас разбудили ночью, чтобы выяснить, кто владеет румынским и греческим языками.
Все это внушало такие надежды, что, когда в апреле нас начали группами по десять-двадцать человек вывозить из лагеря, многие свято верили, что едут на свободу.
Понять, по каким критериям подбирают эти группы, было невозможно: разный возраст, разные звания, специальности, социальное происхождение, политические убеждения… Состав каждой новой партия опровергал наши прежние догадки. В одном все были едины: каждый лихорадочно ждал того часа, когда огласят новый перечень выезжающих (может, наконец попадет в список); мы называли это «час попугая», потому что случайность перечня наводила на мысль о карточках, которые вытягивают попугаи бродячих шарманщиков в Польше.
Комендант лагеря подполковник Бережков и комиссар Киршон официально заверили нас, что это ликвидация лагеря, что нас направляют на распределительные пункты, откуда мы будем отправлены на родину, как на немецкую сторону, так и на советскую. Стоя на большой церковной лестнице, комендант прощался с партией отъезжающих многообещающей улыбкой.
— Вы едете туда, — сказал он одному из нас, — куда и я очень хотел бы поехать.
Из барака 21 на «улице Львовской» (два ряда двухэтажных нар поперек длинного барака, разделенные узким проходом), где я жил после Рождества, каждые несколько дней кто-то выбывал. Нас было сорок человек, мы очень сжились друг с другом, однако прощания были радостными, каждый жил надеждой на лучшее, полное неожиданностей будущее.
В нашей группе были только молодые, кроме меня и одного уже старого, больного, скромного чиновника из Львова. Он оставил там семью, о сыне подхорунжем не имел никаких известий, жил надеждой на возвращение. Был он очень тихий и казался слегка помешанным. Мы звали его «дедулей». Соседи по нарам добродушно его опекали.
«Дедуля» каждый вечер с превеликим тщанием паковал свои скромные пожитки — какие-то тряпки, веревочки, сэкономленные за недели кусочки сахара — и уже на рассвете сидел в пальто, в шапке, полностью готовый, в ожидании «часа попугая». Так было надежнее, а то вдруг опоздает. Он верил, что его отправят в родной город, ведь он уже ни для кого не представляет угрозы, там, во Львове, он хотел умереть.
Наконец старичка забрали и увезли… но не во Львов.
Меня все никак не увозили. Из 3 920 старобельских в лагере осталось едва ли пара десятков человек, в отправке транспортов случались все большие перерывы.
Я бродил по пустым баракам, подолгу сидел на солнце на пустом, утоптанном тысячами ног плацу, где внезапные порывы ветра вздымали клубы пыли. Как же я завидовал тем «счастливчикам», которые уехали далеко за колючую проволоку, в далекий большой мир!
Старобельск я покинул в группе из 16 человек лишь 12 мая.
Уже на станции начались неожиданности. Нашу партию затолкали в тюремные вагоны, по десять с чем-то человек в узенькие купе, практически без окон, с зарешеченными дверями. На стенах мы находили надписи по-польски: «нас высадили около Смоленска». Тюремщики были очень грубыми. Нас принципиально выпускали в сортир дважды в сутки. Давали только немного селедки и воду. Было душно, люди теряли сознание, конвоиры выказывали полнейшее безразличие, присущее их профессии. Поезд долго кружил по Харькову, где двоих из нас высадили, потом через Тулу нас привезли в пригород Смоленска, высадили на маленькой станции Бабинино и погрузили, подгоняя и пихая прикладами, на большую платформу. Эта платформа везла нас по бесплодной земле, мимо оскудевших деревень, таких бедных, каких мы никогда и нигде не видели в Польше.
Все мы ждали самого худшего. На нас молча, будто невидящими глазами, смотрели пожилые, исхудавшие, грустные мужики с длинными, как при Борисе Годунове, бородами, ребята-школьники оскорбляли нас, обзывали «польскими панами» и «кровопийцами».
Нас снова привезли в лагерь в густом лесу. Лопнули, как мыльный пузырь, мечты о Франции, о Польше. Павлищев Бор — так назывался этот лагерь, расположенный среди дивных лесов. Там мы застали 200 наших товарищей из Козельска, 120 из Осташкова и 63 из Старобельска. Эти последние были 25 апреля высланы из Старобельска наряду с обычной группой. Им неоднократно подчеркивали, что они должны держаться отдельно, так как едут в особых условиях.
Та группа из 63 человек, группа из 16-ти, в которой приехал я, и около десятка тех, кого увезли поодиночке зимой, — это все, кто не погиб из тех 4000 военнопленных, которые провели зиму в Старобельском лагере.
В лагере Павлищев Бор нас было около 400. Через пару недель всех нас вывезли в Грязовец под Вологдой, где продержали до августа 1941 года. Условия там были лучше, чем в Старобельске. Мы жили в старом здании бывшего монастыря и в двух маленьких деревянных домиках для паломников. Старинная церковь этого монастыря была взорвана динамитом.
Поначалу мы были уверены, что такой же жребий выпал всем остальным нашим товарищам, что их разослали в подобные маленькие лагеря, разбросанные по всей России. Однако очень скоро мы начали задумываться над их судьбой, поскольку почти в каждой открытке с родины были все более тревожные вопросы, что случилось с нашими товарищами из Старобельска, Козельска и Осташкова, после того, как мы с ними расстались.
На основании этих открыток из Польши мы уже летом 1940 года пришли к выводу, что мы — единственные пленные из этих трех лагерей, о которых после апреля 1940 года доходили вести на Родину.
Когда после польско-советского договора в июле 1941 года, после так называемой августовской «амнистии», нам объявили о создании в СССР польской армии, когда все мы записались в армию, мы уже догадывались, что наша судьба не идет ни в какое сравнение с судьбами остальных наших товарищей. Уже тогда мы начали записывать по памяти их имена и составили первый список погибших старобельчан, козельчан и осташковцев.
Сегодня этот список разросся более чем до 10 000 имен и находится в Польской армии.
Следует отметить, что:
Слухи и сообщения о том, что наши товарищи из Старобельска № 1, Козельска № 1 и Осташкова якобы находятся в дальних лагерях СССР, были всегда из третьих рук, неконкретными, ненадежными, и проверить их было невозможно.
С апреля 1940 года, то есть с момента расформирования этих лагерей, до родины, до семей или позже до нас, до Польской армии, не дошло ни единого непосредственного признака жизни хотя бы от одного из наших товарищей.
В период формирования Польской армии в СССР (1941 – 1942), когда к нам прибывали поляки, молодые и старые, из самых дальних уголков советской России, из Коми, с Новой Земли, из Воркуты, Норильска, с Колымы или китайской границы, из них не вернулся ни один.
Перевод Елены Барзовой и Гаянэ Мурадян
Благодарим Kolegium Europy Wschodniej за возможность публикации